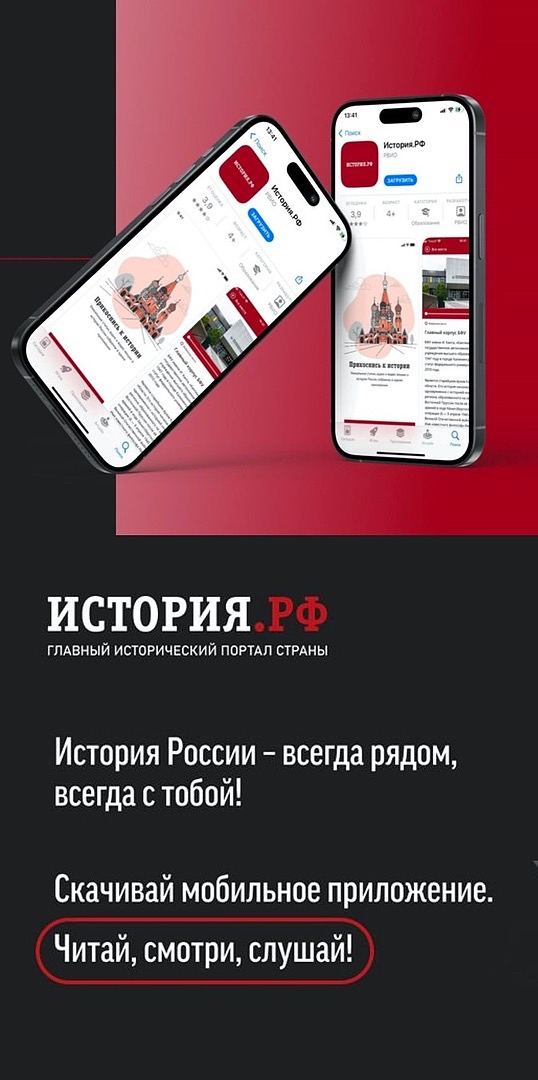«Теория казней Божьих»: от Начального свода к Повести временных лет

Д.А. Добровольский
«Теория казней Божьих»: от Начального свода к Повести временных лет
Специалисты хорошо знают, что работа древнерусских летописцев не ограничивалась составлением очередных годовых статей. Напротив, летописные тексты не только обогащались сведениями о текущих событиях, но и подвергались ретроспективной редакторской правке, приобретавшей иной раз весьма радикальный характер. Установить причины, вызвавшие к жизни очередную переработку, — ключевая задача исследования каждого летописного свода. Но не менее важно развивать наши представления о спектре возможных причин.
А.А. Шахматов считал, что этот спектр практически исчерпывается соображениями политического свойства. «Из позднейших летописных сводов XII—XIII вв. мы можем составить представление о том, как пристрастно они освещали современные события: рукой летописца управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника, умеющего дать правдивую оценку событиям, развертывающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими событиями, — оценку религиозного мыслителя, чающего водворения Царствия Божия в земельной юдоли, — рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы; если летописец был монахом, то тем большую свободу он давал своей пристрастной оценке, когда она совпадала с интересами родной обители и печерского стада, ее населявшего», — писал ученый в 1916 г. в предисловии к своей реконструкции Повести временных лет. Далее А.А. Шахматов оговаривался, что «высокие подвижнические идеалы» печерских иноков XI в. «не так легко мирились с раболепием и угодничеством перед сильными мира», как это происходило в дальнейшем. Однако «в конце концов», заключал исследователь, «упорство обители склонилось перед властью князя» [1]. За радикальной переработкой летописи Нестором А.А. Шахматову виделся политический заказ со стороны Святополка Изяславича, а ее предполагаемое редактирование Сильвестром и неизвестным книжником из круга Мстислава Владимировича воспринималось прежде всего сквозь призму противоборства разных ветвей княжеского рода [2]. Некоторые последователи (Д.С. Лихачев) упрекали знаменитого ученого в узости взглядов, в том, что сводя факторы эволюции летописи к противоборству отдельных личностей он не увидел социальных изменений, продиктованных логикой развития раннедревнерусского общества [3]. Однако «расширенная» социологическая трактовка многих изменений летописного текста тоже не представляется убедительной.
Так, трудно представить, чьи политические интересы могут стоять за существенным расширением в начале XII в. вступительной части летописного рассказа, особенно за вставкой таких фрагментов как, например, история об обрах [4]. Еще сложнее понять, какие социальные процессы стоят за дополнением статьи 6454 (946) г. рассказом о сожжении Ольгой Искоростеня (1: 58—59). Судя по всему, давление превходящих обстоятельств было лишь одной из множества причин, заставлявших летописцев вмешиваться в доставшийся им от предшественников текст.
Неполитические мотивы многих поправок лежат на поверхности. Скажем, превращая Олега из соратника князя Игоря (3: 107) в опекуна-регента при малолетнем наследнике (1: 22—24, 29—32 и др.), составитель Повести временных лет заботился, скорее всего, об элементарном правдоподобии: в противном случае пришлось бы либо отказываться от установленных им же дат призвания варягов (862 г.) и захвата Киева (882 г.), либо соглашаться с тем, что Игорь женился на Ольге (903 г., ср. 38: 19) в возрасте лет сорока (если не пятидесяти), а единственного известного потомка — Святослава — произвел на свет на восьмом десятке [5]. Результат манипуляций (свадьба в двадцать с небольшим, рождение сына после шестидесяти) тоже не безупречен, и не позволил избежать ни повтора сюжетной схемы (Олег — регент при малолетнем Игоре; Ольга — регентша при столь же юном Святославе), ни даже трехкратного употребления одной и той же характеристики возраста [6], однако определенный прогресс налицо. Но есть в истории Повести и предшествующих ей сводов XI в. такие изменения текста, при объяснении которых обычная бытовая логика не срабатывает.
В числе подобных правок — вставка Поучения о казнях Божиих в статью 6576 (1068) г. О том, что в первой версии указанной статьи Поучения не было, писал еще А.А. Шахматов [7], и хотя аргументация ученого приемлема лишь с оговорками [8], с общим выводом его рассуждений нельзя не согласиться. Первая после предполагаемой вставки фраза содержит усилительную частицу же: «Изяславу же со Всеволодомъ Кыеву побѣгшю, а Святославу Чернигову, и людье Кыевстии прибѣгоша Кыеву и створиша вѣче на торговищи, и рѣша, пославшеся ко князю: “Се половци росулися по земли. Даи, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними”» (1: 170). Это нормально для последовательного развития текста (особенно если в предыдущем предложении было другое подлежащее), но едва ли уместно в начале очередного структурного раздела, где обсуждаемая фраза находится теперь. Очевидно, Поучение было добавлено (когда — вопрос пока второстепенный) в текст, исходно его не содержавший.
Однако даже соглашаясь с А.А. Шахматовым в том, что касается факта вставки, трудно признать указанные исследователем мотивы. Ученый считал, что Поучение о казнях Божиих было создано Феодосием Печерским непосредственно «после поражения русских князей на Альте», а еще точнее — «во время сильного брожения, вызванного этим поражением в Киеве». Связь со столь славным именем, к тому же в контексте важных событий обеспечила сохранившейся проповеди печерского игумена большую мемориальную ценность, которая и подвигла последующих книжников включить сочинение в соответствующую летописную статью [9]. Между тем, Поучение не сопровождается ни указанием на авторство Феодосия, ни приличествующим случаю историческим комментарием. Такая «небрежность» в передаче обеих гипотетических причин интерполяции противоречит предложенной А.А. Шахматовым «антикварной» трактовке и склоняет задуматься об иных объяснениях вставки Поучения о казнях Божиих в статью 6576 г.
Обращает на себя внимание присутствие мотивов Поучения в других фрагментах летописного текста, а именно — в статьях 6532 (1024), 6600 (1092) и, что особенно важно, 6618 (1110) гг. В совокупности эти рассуждения образуют своеобразную историко-философскую конструкцию, иногда именуемую «теорией казней Божьих».
Под 6532 г. формулировки, близкие к формулировкам Поучения, обнаруживаются в словах князя Ярослава:
6576 г. | 6532 г. |
Наводить бо Богъ по гнѣву своему иноплеменьникы на землю, и, тако скрушенымъ имъ, въспомянутся къ Богу. <...> Земли же согрѣшивше которѣи любо, казнить Богъ смьртью ли гладомъ, ли наведенье поганыхъ, ли ведромъ, ли гусѣницею, ли инѣми казньми (1: 167—168). | Слышавъ же Ярославъ волхвы, приде Суздалю, изъимавъ волхвы, расточи, а другыми показани [так! — Д.Д.], рекъ сице: «Богъ наводить по грѣхомъ на куюждо землю гладомъ или моромъ, ли ведромъ, ли иною казнью, а человѣкъ не вѣсть ничтоже». И, възвративъся, Ярославъ приде Новугороду (1: 147—148). |
Под 6600 г. сходные мотивы представлены в комментариях уже самого летописца к серии известий о засухе, войнах и эпидемиях: «Се же бысть за грѣхы наша, яко умножишася грѣси наши [и] неправды. Се же наведе на ны Богъ, веля нам имѣти покаянье и въстягнутися от грѣха, и от зависти, и от прочихъ злыхъ дѣлъ неприязнинъ» (1: 215).
Наконец, статья 6618 г. и следующая за ней подробная запись 6619 (1111) г. посвящены не бедам и горестям, а, наоборот, радостному событию — победе русских войск над степняками. Как следствие, присутствие обсуждаемых мотивов в этой части летописи не было замечено одним из первый исследователей обсуждаемой «теории» — А.С. Орешниковым [10]. В.В. Мильков, в свою очередь, связывает значение статьи 6618 г. с рассуждениями книжника об ангелах, благодаря которым «теория казней» приобретает «более стройный и достаточно зрелый, с точки зрения христианского богословия, вид» [11]. Между тем, богословские рассуждения, составляющие основной объем статьи 6618 г., содержат прямую отсылку к поражению русских войск от половцев, описанному под 6576 г.: «...яко и се бяше и на ны навелъ Богъ грѣхъ ради нашихъ иноплеменьникы поганыя, и побѣжахуть ны повелѣньемъ Божьимъ» (2: 262—263). В свою очередь, рассказ о походе против кочевых соседей, помещенный под следующим 6619 г., посвящен не только и не столько собственно ходу боевых действий, сколько описанию разного рода религиозных обрядов, совершавшихся князьями и их дружинниками по мере продвижения по вражеской территории (2: 266). Такое настойчивое подчеркивание набожности соплеменников создает примечательный контраст со словами о пустых церквях, венчающими собой Поучение о казнях Божиих: «...видим бо игрища утолочена, и людии много множьство [на них], яко упихати начнуть друг друга, позоры дѣюще от бѣса замышленаго дѣла, а церкви стоять. Егда же бываеть годъ молитвы, мало обрѣтается в церкви, да сего ради казни приемлемъ от Бога всячьскыя и нахоженье ратных по Божью повелѣнью, приемлем казнь грѣхъ ради наших» (1: 170). Складывается впечатление, что летописец целенаправленно стремился убедить читателей в важности детального исполнения религиозных обрядов.
Данному предположению весьма способствует то обстоятельство, что признаки вставки несет на себе не только упомянутое выше Поучение о казнях Божиих из статьи 6576 г., но и рассказ 6532 г. о суздальских волхвах [12]. Замечание 6600 г. не рушит структуру окружающего текста, но и не является в нем необходимым, будучи синтаксически полностью независимым. Наконец, богословские рассуждения из статьи 6618 г. также рассматриваются сегодня как интерполяция редактора, трудившегося около 1117 г. [13] Очевидно, под пером этого книжника летопись пережила системную правку, затронувшую целый ряд летописных статей, включая и те, что повествовали о событиях без малого столетней давности.
Мотивы (и, более того, абсолютная неизбежность) предполагаемых корректив становятся особенно понятны, если сопоставить реализацию «теории казней Божьих» в перечисленных выше статьях с тем, как схожий комплекс идей подается в сообщениях 6601 (1093) и 6604 (1096) гг., не несущих на себе столь явных признаков интерполяции, а наоборот тесно связанных с фрагментами, принадлежащими перу книжника, трудившегося над летописью еще до момента появления Повести временных лет, в конце XI в.
Сначала в статье 6601 г. дается вполне привычная трактовка «теории казней»: «Се бо на ны Богъ попусти поганым, не яко милуя ихъ, но насъ кажа, да быхомъ ся востягнули от злыхъ дѣлъ, симь казнить ны нахоженьемь поганых, се бо есть батогъ его, да негли, встягнувшеся, вспомянемъся от злаго пути своего» (1: 222). Этот фрагмент тесно перекликается с Поучением о казнях Божиих (в т.ч. на лексическом уровне, ср. в частности употребление редкого глагола възтягнутися), что уже привлекало заслуженное внимание специалистов [14]. Однако развитие мысли оказывается несколько неожиданным, поскольку основной идеей становится уже не призыв к покаянию, а радость от того, что прегрешения народа уже искуплены, наподобие того как первородный грех был искуплен крестным страданием Христа: «кажеть бо ны добрѣ благыи Владыка, не по безаконью нашему створи нам, и по грѣхомъ нашим въздасть нам. Тако подобаеть благому владыцѣ казати: не по множьству грѣховъ. Тако Господь сотвори нам: созда падшая въставить, Адамле преступленье прости, баню нетлѣнья дарова и свою кровь за ны излья. Якоже ны видѣ неправо пребывающа, нанесе нам сущую рать и скорбь, да [и] не хотяще всяко в будущии вѣкъ обрящем милость, душа бо сдѣ казнима всяко милость в будущии вѣкъ обрящеть и лготу от мукъ, не мьстить бо Господь дважды о томь». «О, неиздреченьному человеколюбью, якоже видѣ ны волею к нему обращающеся! — восклицает летописец — О, тмами любве, еже к намъ! Понеже хотяще уклонихомся от заповѣдии его, се уже не хотяще терпим, се с нужею, и понеже неволею, се уже волею. Гдѣ бо бѣ у насъ умиленье, нонѣ же вся полна суть слезъ! Гдѣ бѣ в насъ въздыханье, ноне же плачь по всѣмъ улицам упостранися, избьеных ради, иже избиша безаконьнии половци!» (1: 224). Таким образом в летописи появляется представление о возможности пассивного покаяния и спасения, не требующего активных действий. Несовместимость подобных взглядов с самой сущностью христианского учения едва ли нуждается в комментариях.
Под 6604 г. мысль о пассивном спасении возникает снова, на сей раз в форме утверждения о том, что участь людей на том свете симметрична их поведению на этом, которое, в свою очередь, предопределяется религиозной принадлежностью: «емлюще иконы, зажигаху двери и укаряху Бога и законъ нашь. Богъ же терпяше, еще бо не скончалися бяху грѣси ихъ и безаконья ихъ, тѣмь глаголаху: “Кдѣ есть богъ ихъ, да поможеть имъ и избавить я?” И ина словеса хулная глаголаху на святыя иконы, насмихающеся, не вѣдуще, яко Богъ кажеть рабы своя напастми ратными, да явятся яко злато искушено в горну, хрестьяномъ бо многыми скорбми и напастьми внити в Царство Небесное, а симъ поганым и ругателем, на семь свѣтѣ приимшим веселье и просторонство, а на ономь свѣтѣ приимуть муку с дьяволом, уготовании огню вѣчному» (1: 233). Снова получается, что не человек выбирает себе путь спасения, а Бог направляет избранных своих в нужную сторону, восполняя недостаток личного покаяния с помощью насылаемых свыше несчастий.
Присутствие в источнике подобных рассуждений не должно удивлять современного читателя. Напротив, определяя средневековую Русь как «православную», необходимо помнить, что «православие» (равно как и «католицизм» применительно к Западной Европе, да и в принципе любая религиозная категория) является в данном контексте не более чем условным «идеальным типом», внутри которого возможны самые разнообразные колебания.
С другой стороны, в общем случае богословские «вольности» как минимум не приветствуются, и поэтому сомнительные эксперименты книжника конца XI в. должны были быть пусть и не ликвидированы (цитированные выше статьи 6601 и 6604 гг. представляют собой безусловные шедевры древнерусского словесного искусства, и просто выбросить их значило бы повредить литературному качеству повествования), но, во всяком случае, максимально нивелированы последовательным проведением более осторожной трактовки характеризуемых событий. Эту задачу вполне могла решать серия интерполяций, внесенных в летописный текст его редактором, работавшим около 1117 г.
Специфика летописи как формы исторической памяти такова, что богословская полемика между отдельными книжниками обречена оставаться имплицитной. Узкие рамки годовых статей и доминирование хронологического принципа расположения материала над содержательным почти не оставляют места для развернутого изложения взглядов на тот или иной аспект христианского вероучения. В то же время, имплицитность процесса вовсе не свидетельствует о его малом значении. Представляется, что догматические расхождения и даже проникновение в исторические сочинения неканонических идей были таким же действенным фактором эволюции текста древнерусских летописей, как и политическое противоборство.
[i] Шахматов А.А. Повесть временных лет // Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1, кн. 2. С.537—538.
[ii] Там же. С. 538—539.
[iii] Лихачев Д.С. «Повесть временных лет»: (Историко-литературный очерк) // Повесть временных лет / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996. С. 294—296.
[iv] Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 11—12. Далее все ссылки на тома этого издания приводятся непосредственно в тексте, в круглых скобках, при чем цифра до двоеточия обозначает том, а цифры после — страницу или столбец (в зависимости от принятой в данном томе пагинации).
[v] Во время похода на Искоростень Святослав «бѣ <...> дѣтескъ», мог сидеть на коне, но не мог держать копье (1: 58), т.е. ему явно не исполнилось и десяти.
[vi] Первые два раза прилагательное дѣтескъ употребляется при обозначении возраста Игоря (1: 22, 23).
[vii] Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1, кн. 1. С. 127—128; Он же. «Повесть временных лет» и ее источники // Тр. / Ин-т рус. лит. АН СССР. Отд. др.-рус. лит.М.; Л., 1940. С. 104.
[viii] Неясно, в частности, на чем, кроме субъективной вкусовой оценки, основываются категорические утверждения исследователя об очевидной порче предшествующего Поучению известия о битве на Альте.
[ix] Он же. «Повесть временных лет» и ее источники. С. 109.
[x] Орешников А.С. К истории Начального летописного свода: (О составителе и времени составления «Поучения о казнях Божиих») // Тр. / Моск. гос. историко-архивн. ин-т. М., 1961. Т. 16. С. 481—487.
[xi] Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. Изд. 2-е, исп. и доп. СПб., 2000. С. 41.
[xii] Шахматов А.А. Разыскания... С. 134.
[xiii] Гиппиус А.А. К проблеме редакций Повести временных лет: II // Славяноведение. 2008. № 2. С. 13—17.
[xiv] Timberlake A. Redactions of the Primary Chronicle // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 206. Исследователь автоматически делает вывод о принадлежности обоих фрагментов одному автору, но не менее вероятно, что перед нами отсылка к тексту Поучения, текст которого составитель очередной статьи знал, поскольку оно действительно принадлежало перу кого-то из известных печерских подвижников и, соответственно, хранилось в Киево-Печерском монастыре. Примечательно в данном отношении еще и то, что слово-маркер възтягнутися использовано под 6601 г. в значениях «удержаться» (первое употребление) и «задержаться мыслью на чем-либо, остановиться» (второе), тогда как под 6576 г. используется значение «устремиться к чему-либо». Иначе говоря, в летописи представлены все три возможных значения данного глагола, отмеченные в словарях (ср.: Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. М., 1989. Т. 2. С. 136). Маловероятно, чтобы один и тот же автор использовал относительно редкую лексическую единицу сразу во всех трех ее возможных значениях, особенно если учесть, что два из этих значений по сути противоположны третьему. Скорее перед нами результат механической инкорпорации Поучения в летопись, не сопровождавшейся «выравниванием» узусов. Но если дело обстояло именно так, то тем естественнее думать, что Поучение не принадлежало перу ни одного из летописцев и существовало само по себе.
Обложка: фото автора Д.А. Добровольского.