Люди "бунташного века". Россия XVII век

XVII век стал последним веком Древней Руси, когда, несмотря на сословные различия, и крестьянин, и боярин питались одними духовными началами, пронизанными религиозностью и патриархальностью. Дворянство еще не заговорило по-французски и не искало истины в заморских далях. После безумных и ужасных событий Смуты русский человек больше стал ценить сильную власть, видя в добром, но строгом царе единственное ручательство спокойствия и безопасности. Однако уже тогда проявились признаки распада духовного единства народа, начало которому положил церковный раскол и усугубил реформаторский пыл Петра I. Это была цена за модернизацию и вхождение России в круг великих держав.
Мировоззрение русского человека XVII века
Русского человека XVII века отличали глубокая религиозность и приверженность патриархальным устоям. Оставшись после падения Константинополя в 1453 году единственной непокоренной страной православия и впитав учение о Третьем Риме, Московское государство осознавало свою миссию как хранителя истинной веры и непреклонного воителя против врагов православия. Подобный взгляд находил подтверждение в событиях Смуты, когда иноверцы терзали тело России, и в то же время он стал той решающей идеей и духовным огнем, вокруг которого объединились защитники отечества, воины Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Настороженное отношение к иностранцам и всяким новшествам также отличало менталитет русского человека XVII века. Заморские гости вызывали острое любопытство, и в то же время пугали своей необычностью – от внешнего вида до повседневных привычек. В иностранце видели не только хитроумного специалиста или преуспевающего торговца, но еще и «латинянина», потенциального врага русской веры. Вот почему широкое привечание иноземцев как Лжедмитрием I, так и Петром I порой вызывало открытый ропот.
С практической стороны наибольший авторитет для русского человека имел «Домострой». Взгляды, изложенные в этом «учебнике семейной жизни», разделялись всеми слоями общества XVII века. Отеческие советы по управлению хозяйством, поведению в храме, семейным отношениям и даже кулинарным предпочтениям нашли столь широкий отклик, что многие из домостроевских воззрений проникли в кровь и плоть повседневной жизни. В деревне они господствовали чуть ли не до начала XX века.
Православие
Религиозная обрядность пронизывала русскую жизнь XVII столетия от рождения до смерти. Крестины, венчание, поминки считались важнейшими событиями в семейном быту. На них приглашали гостей, старались подать к столу самое лучшее. Церковный календарь стал основой хозяйственной деятельности, к дням определенных святых приурочивали различные работы в поле, к важным церковным датам привязывали природные приметы, важные решения, всевозможные договоры.
Самым торжественным праздником считалась Пасха. В ней слились и доисторические взгляды на весеннее пробуждение, и благочестивые намерения верующих. К самым большим праздникам относились Рождество, Троица, Михайлов день. Повсеместное распространение на Руси получил культ святого Николая. Никола-угодник считался защитником униженных и оскорбленных. Особое уважение оказывалось ему в крестьянской среде. Среди небесных покровителей также высоко ценились Св. Георгий – покровитель православного воинства, архистратиг Михаил – глава всех ангелов и архангелов, грозный пророк Илия, занявший место Перуна и «заведовавший погодой».
В XVII веке широкое распространение получило почитание местных святых подвижников – Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Пафнутия Боровского и т.д. Учрежденные ими монастыри стали местом паломничества, в т.ч. и царских богомолий. В число наиболее почитаемых монастырей того времени входили Троице-Сергиев, Соловецкий, Николо-Угрешский, Пафнутьево-Боровский.
Раскол
Переломным моментом в жизни русского православия стали реформы патриарха Никона. Затеянная в 1653 году с намерением исправить некоторые ошибки и огрехи перевода греческих богослужебных книг, поправить некоторые обряды – прежде всего, заменить двуперстие на трехперстие – реформа неожиданно для власть предержащих вызвала шквал возмущения и привела к трагическому расколу общества. Угрозы и репрессии против упрямцев – архимандрита Иоанна Неронова, протопопа Аввакума, боярыни Феодосьи Морозовой – только укрепили в своих убеждениях староверов, или, как их называли в официальной пропаганде, раскольников.
Между никонианами и староверами разгорелась горячая полемика. Сложно оценить, какое количество населения держалось древних обрядов, с учетом, что свои убеждения приходилось скрывать, однако по документам той эпохи складывается впечатление, что таковых было до 25%. Непримиримое отношение официальной церкви к старообрядцам, поддержанное центральной властью, породило среди них эсхатологические настроения. Ощущение конца света, подогреваемое страстными проповедниками двуперстия, охватило сотни тысяч человек. В 1670-е – 1690-е гг. по стране прокатилось несколько волн массовых самосожжений старообрядцев (гарей). В крупнейших из них погибало по несколько тысяч человек.
Образование
В XVII веке, особенно во второй его половине, заметно возросло количество грамотных. В документах той эпохи мы все чаще встречаем подписи не только служилых людей, но и посадских, крестьян и даже холопов. Образованием женщин, как правило, пренебрегали. Однако в аристократических фамилиях и семьях московских посадских картина несколько отличалась. Так, учительниц для царской семьи обычно набирали среди столичных девушек. Начальное обучение начиналось с шести лет и состояло в усвоении букваря и заучивании наизусть молитв, псалмов и песнопений. Главным считалось «разумети божественное писание», но по возможности детям давали основы арифметики.
Значительную роль в становлении среднего образования оказали украинские и белорусские монахи, прибывшие в Москву в середине столетия. Среди них выделялись Симеон Полоцкий и Епифаний Славинецкий. В 1665 году при Чудовом монастыре возникла греко-латинская школа. В ней обучались преимущественно подьячие различных приказов. В течение десятилетия появилось несколько таких школ – каждая со своей системой обучения. В 1687 году в Заиконоспасском монастыре открылась первая в России высшая школа – Славяно-греко-латинская академия. Ее основателями стали доктора Падуанского университета братья Лихуды. Академия имела высокий престиж в первое время своего существования, а закончившие ее получали служебные чины.
Во второй половине века среди некоторой части знати появилась определенная потребность в самообразовании. Мы встречаем неподдельный интерес к книжности у таких влиятельных сановников как Федор Ртищев, Артамон Матвеев, князь Василий Голицын.
Русская литература от Смуты до Петра
Духовные запросы и культурные потребности того времени нашли выражение в литературных трудах. Накал политических страстей смутного времени отражен в подметных письмах и летучих листах – ярких образцах политической агитации. Такие сочинения как «Повесть 1606 года» или «Новая повесть о преславном Российском царстве» 1610 года в цветистых выражениях и безапелляционным языком доносят до читателя свою позицию. В отличие от них, «Сказание» Авраамия Палицына об осаде Троицкого монастыря исполнено в спокойном тоне и не лишено художественных достоинств.
Среди повествований середины XVII века обращают на себя внимание «Повести об Азове» (об обороне города от турок), «Житие Юлиании Лазаревской» (где традиционное житие перерастает в реалистичное повествование) и исключительное по своим литературным талантам «Житие протопопа Аввакума» (автобиография знаменитого деятеля раскола). Стихотворное сочинение «Повесть о Горе-Злочастии» полно библейских реминисценций. «Горе-Злочастие» принадлежит к лучшим произведениям в жанре бытовых повестей, самом популярном во второй половине столетия.
Среди бытовых повестей стоит также выделить «Повесть о Савве Грудцыне» и «Повесть о Фроле Скобееве». Последняя примечательна тем, что в ней, в нарушение канонов, нет ни одного положительного персонажа. Среди переводной литературы книгочеи XVII века более всего зачитывались приключенческими историями о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче.
В русской сатире того времени любили применять пародийные подражания официальным документам. Наибольшую известность получила повесть о Шемякином суде, в которой язвительно обличаются злоупотребления тогдашней системы правосудия. На судебной канве построена и «Сказка о Ерше Ершовиче» – рассказ о безуспешной попытке крупных рыб изгнать из озера ловкого Ерша. На подражании современному делопроизводству основана и «Калязинская челобитная» – гротескный шарж монашеской жизни. Пристрастие к спиртному высмеивается в «Повести о Бражнике», «Службе кабаку» и др.
Если обратиться к высокой литературе, то, несомненно, крупнейшим представителем русской книжной поэзии был Симеон Полоцкий, в миру Самуил Петровский-Ситнианович. Он обладал отменной европейской выучкой и завидной плодовитостью. Его силлабическая система (11- и 13-сложник со свободной цезурой), заимствованная из Польши, весьма далекая от фольклорных интонаций «простой» литературы, считалась в последней трети века показателем высокой учености. Самыми известными подражателями Симеона Полоцкого выступали Карион Истомин и Сильвестр Медведев.
Таким образом, можно констатировать, что в XVII веке литература начала неуверенный поиск новых путей, пробовала высвобождаться от средневековых условностей и сближаться с реальностью. Однако только революционные перемены петровских реформ откроют для русских писателей новые возможности для самовыражения.
Царский быт
Если обратиться к повседневной жизни русского человека XVII века, то она отличалась от сословия к сословию, сохраняя при этом нечто общее – почитание старины и уважение к церкви. Наиболее известен, что неудивительно, царский быт. Типичный день русского государя можно описать так. Вставал он в четыре утра и, одевшись и умывшись, шел на утреннюю молитву, а после посылал спросить о здравии царицы. Вместе с ней государь слушал заутреню в одной из церквей. Тем временем в Кремль съезжались бояре. Царь выслушивал доклады, рассматривал челобитные, решал текущие дела. По окончании заседания шел обедать.
Иностранцы свидетельствовали, что, например, царь Алексей Михайлович был неприхотлив в еде. За исключением особых случаев и праздничных дней он обходился ржаным хлебом, самыми простыми блюдами, небольшим количеством вина или овсяной браги. После следовал послеобеденный сон, часа на три. В вечерню во дворец вновь прибывали думные чины. Остаток дня до ужина царь проводил в кругу семьи или близких друзей. Тот же Алексей Михайлович любил живую беседу, чтение, шахматы, шашки. Он даже завел первый в России театр. Его сын Федор Алексеевич предпочитал досуг от Потешной палаты, где всевозможные потешники (домрачеи, цимбальники, шуты и карлики) пели песни, кривлялись и кувыркались. После досуга наступало время вечернего кушанья, за ним вечерней молитвы и сна. На отдыхе в загородных дворцах в большом почете была охота. Самым страстным ее почитателем считался Алексей Михайлович. Он хаживал на медведя, гонялся за зайцами, обожал соколов и кречетов.
Боярский и дворянский быт
Боярский быт отличался пышностью и демонстрировал возможности хозяина. В XVII веке у высшей знати вошли в обиход каменные палаты, хотя и деревянные хоромы тоже имели место. Обилие икон, дорогая посуда, богатый стол с деликатесами ассоциировались с престижем и достатком. Огромное количество мяса и рыбы, разнообразие заграничных пряностей, редкие фрукты вроде лимонов, а также арбузы и виноград доказывали, что домовладелец не простой человек.
Одежда также подчеркивала высокий статус боярина и его семьи. Наибольшую известность получили боярские шубы из соболиного меха с серебряными пуговицами и широким воротником, украшенным золотым шитьем и жемчугами, высокие «горлатные» шапки, красные сафьяновые сапоги с загнутыми носами. Яркое зрелище представлял собой боярский выезд, когда на верховом коне с дорогой сбруей или в карете (они вошли в моду во второй половине века) важный сановник в окружении многочисленной свиты отправлялся по своим делам. Это азиатское великолепие неоднократно описывалось иностранцами, пораженными диковинным зрелищем.
Дворянский быт, особенно провинциальный, заметно уступал боярскому. Среднестатистический помещик проживал в прочной деревянной избе в два-три этажа, имел крепкое хозяйство и гордился своими воинскими подвигами. Часто на стенах дворянских покоев как свидетельство храбрости владельца красовались кольчуга, шлем, пищаль, сабля.
Крестьянский быт
Крестьянский быт известен нам хуже. Чаще всего деревенская изба XVII века была «черной»: очаг делали без трубы, дым выходил через отверстие на крыше. Поэтому на стенах и потолке оседала сажа, и помещение действительно казалось черным. Освещение состояло из лучины, окна затягивали бычьим пузырем. Сидели и спали на лавках, обедали за общим столом. Посуда была деревянной и глиняной, оловянная и медная встречались редко. Привычный рацион состоял из черного хлеба, гороховой и гречневой каши, толокна. Из овощей больше всего потребляли капусту, в т.ч. квашеную. Также на столе нередко встречались, особенно летом и осенью, морковь, лук, репа, редька, огурцы.
В зимнее время в избе вместе с людьми грелась домашняя живность – телята, овцы, куры. Здесь же хранились топоры, лопаты, конская сбруя и т.д. Крестьянская одежда шилась из домотканого холста, либо из грубого сукна. Холщовые рубахи любили украшать вышивкой. Крестьянской обувью служили лапти летом, а валенки – зимой. Сапоги считались большой роскошью. Любыми праздниками сельских жителей были колядки, масленица, ночь на Ивана Купала, выступления скоморохов и петрушек.
Русский мир глазами иностранцев
По-настоящему иностранцы (европейцы) открыли для себя Россию (Московию) в XVI веке. Записки Герберштейна, Ченслера, Штадена и других путешественников поведали читателям о загадочной восточной стране. В XVII веке число приезжих значительно возросло. В Москву ехали различные мастера (зодчие, рудознатцы, доктора), деловые люди и, прежде всего, офицеры и солдаты. Полки нового строя стали одним из главных мест привлечения иностранцев – шведов, шотландцев, голландцев, подданных германских княжеств. В России их всех называли «немцами».
«Немецкие» впечатления о русских порядках и обычаях весьма ценны для отечественной истории. Нам доступны десятки рассказов о России того времени, принадлежащих самым разным людям – солдатам, послам, путешественникам, врачам. Наиболее интересные записки о России XVII века оставили Жак Маржарет, Адам Олеарий, Энгельберт Кемпфер, Ганс Мориц Айрманн, Петр Петрей, Джон Перри и другие.
Что больше всего поражало иностранцев в русских, так это хлебосольство, причем как в боярских, так и в крестьянских семьях, непривычные блюда – блины, щи и каши, необычные песни и танцы, обряд сватовства и свадебные торжества, красивая резьба на домах. Многие отмечали русскую религиозность, почитание икон, строгие посты, частое посещение церквей. Джона Перри потрясла русская зима – трескучими морозами и той легкостью, с которой местные жители ее переносили; Ганса Морица Айрманна – русская баня, о которой он отзывался как о пылающем пекле; Жака Маржарета – русские крестьяне, умудряющиеся собирать хорошие урожаи в условиях сурового климата.
Заграничные новшества XVII века
Проникновение иностранных новшеств, особенно в конце века, отмечали все современники. Некоторые из новинок носили модный и преходящий характер, другие имели важное практическое значение. Например, при Алексее Михайловиче появились первые аптеки и рецептурные книги, получили распространение очки. Многие годы царя лечил англичанин Самуэль Коллинз. Пользу грамотного лечения сложно было отрицать даже ярым приверженцам старины. Неотложная необходимость еще более заставляла перенимать западные образцы в военном деле. Речь, конечно же, о полках иноземного строя, которые начали формировать еще при Василии Шуйском.
Однако «заморские диковинки», не имеющие прямого практического значения, воспринимались с гораздо большим недоверием. К примеру, табак, получивший определенное хождение в конце XVI – начале XVII вв. через голландских и английских торговцев, встретил полное неприятие династии Романовых. Едва взойдя на престол, Михаил Федорович запретил это «разорительное зелье». Но чай, шедший из Китая, был принят радушно, и уже к концу века стал повседневным напитком дворянства и купечества, а веком позже – и крестьянства. Тогда же большое распространение получили восточные специи – корица, перец, гвоздика, мускат и т.д. Среди кухонных приборов в употребление стали входить стаканы, тарелки и сковороды.
К XVII веку относится появление русского театра. Пылким поклонником театральных представлений слыл Алексей Михайлович. В 1672 году он пригласил труппу немецких актеров во главе с Иоганном Готфридом Грегори и организовал собственный придворный театр. Среди модных вещей века стоит упомянуть кареты и башмаки. Пик их популярности пришелся на правление Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.
Первые русские «европейцы»
Отдельные русские вельможи пошли дальше модных нарядов и бытового комфорта. Они становились сторонниками европейской культуры, европейского просвещения, европейского образа жизни. К первым западникам принадлежали князь Иван Хворостинин, воевода Василий Измайлов, боярин Артамон Матвеев, дьяк Григорий Котошихин, князь Василий Голицын, Афанасий Ордин-Нащокин. Кто-то из них, подобно Хворостинину и Измайлову, размышлял о «русском плюгавстве», кто-то, как Голицын и Ордин-Нащокин, придерживался патриотических позиций.
Скажем несколько слов о последнем. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин проявил себя как выдающийся дипломат и государственный деятель. Близкое знакомство с западным миром убедило его в необходимости модернизации русского государства по западному образцу. Он ратовал за развитие торговли и промышленности, говорил о необходимости морского пути через Балтийское море, и даже попытался основать первый в России коммерческий банк. Его взгляды опередили свое время, и потому он вошел в историю как «преждевременный человек». Понадобилось целое поколение и несокрушимая воля Петра I, чтобы многие планы, начертанные Ординым-Нащокиным, претворились в жизнь.
Пройти тест по теме
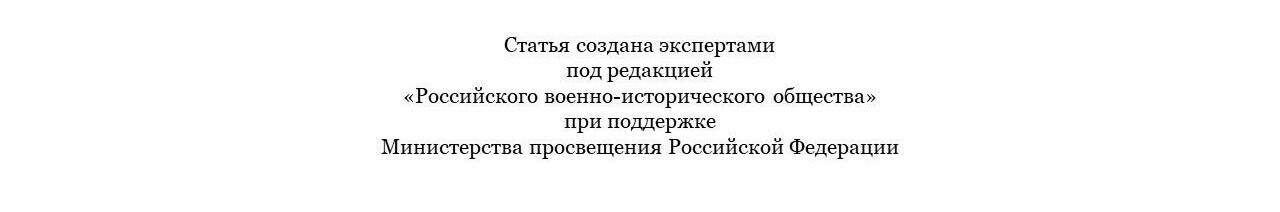
Источник обложки: Школа жизни.ру
